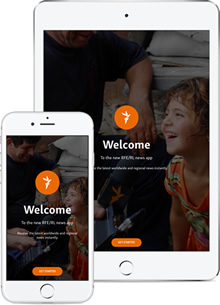Иван Толстой: Самый громкий послевоенный судебный процесс – по делу Синявского и Даниэля, - проходивший в феврале 1966 года, стал вехой почти для всех общественных и культурных событий эпохи. Движение за права человека, подписание открытых писем, самиздат и тамиздат, движение бардов, шестидесятничество во всех своих проявлениях, волна защиты оппозиционной советской культуры со стороны западной интеллигенции – все это так или иначе уходит своими корнями в поступок Андрея Синявского и Юлия Даниэля.
Юлий Маркович родился в Москве 15 ноября 1925 года и скончался 30 декабря 1988-го. Прозаик, поэт, переводчик. На фронте с октября 1943 года, телефонист телефонно-кабельной роты. Был ранен, награжден медалью «За Отвагу». Филолог по образованию, работал учителем в Калужской области. Преподавал литературу в московской школе до 1958 года. С 1957-го публиковался в Советском Союзе как переводчик. Вместе с Синявским отправил свои рукописи за границу. Его рассказы вышли под псевдонимом Николай Аржак. Арестован в сентябре 1965-го. В феврале 1966-го получил пятилетний срок заключения. Вышел в 1970-м.
Недавно в Прагу приезжал сын Юлия Даниэля Александр – правозащитник и историк. До перестройки работал программистом.
В 1970-е участвовал в выпуске «Хроники текущих событий», был членом редакции исторического сборника «Память».
С 1988 года в «Мемориале». В 2009 году получил премию Московской Хельсинкской группы за исторический вклад в защиту прав человека и в правозащитное движение. Последняя крупная работа Александра Даниэля – составление и редактура «Энциклопедии диссидентства: СССР, 1956–1989». Этот труд отмечен особым упоминанием жюри премии «Просветитель» 2024 года.
В 2000-м году Александр Юльевич составил большой том писем из заключения и стихов своего отца, названный «Я все сбиваюсь на литературу…».
Александр Даниэль посетил Прагу по случаю выхода на чешском языке воспоминаний его матери Ларисы Богораз – также правозащитницы, одной из восьмерки смельчаков, вышедших летом 1968 года на Красную площадь.
Но мы начали беседу с отца.
Александр, вам ведь было около 14 лет, когда арестовали отца?
Александр Даниэль: Точно.
Иван Толстой: Что вы о нем помните до его ареста? Какие были у вас отношения с ним?
Александр Даниэль: Ну, как-то даже не очень понятно, как ответить на этот вопрос. Прекрасные. Никакой вот этой проблематики детей, никаких generation gaps, ничего этого не было ни с отцом, ни с матерью.
Ни в какой степени не был он, конечно, ментором и учителем
Иван Толстой: Был ли он по складу своему учителем, ментором или пускал всё на самотек?
Александр Даниэль: Ни в какой степени не был он, конечно, ментором и учителем. Совершенно несомненно пускал все на самотек. И так я и рос, как сорная трава. Никто меня не воспитывал. Ни папа, ни мама. Единственный случай, когда я нарвался на... Ну, вообще это не воспитание. Это подлость, а не воспитание было. Я горячий пионер десяти лет пришел с пионерского сбора, с горящими глазами начал рассказывать, какой интересный у нас был пионерский сбор, как нам рассказывали про Павлика Морозова.
Тут гляжу, у отца каменеет физиономия. Он говорит: "А что же он твой, Павлик Морозов, сделал?" Но я ему ответил по-простому, как я понял. Он, говорю, донес на своего отца. Не выбирая слов. Конечно, не так нам это говорили, не этими словами, но я перевел это на нормальный русский язык. Тут гляжу, значит, каменеет уже у обоих родителей физиономия. И они говорят: "Да, - говорят, - а ты бы донес на своего отца? На меня бы донес?" Я говорю: "Так он же был кулак". А я же не знаю, что отец мой хуже, чем кулак. Я этого не знаю в тот момент. И он говорит: "Ну, а если бы я был кулак?” - “Да ты же не кулак".
И в общем-то, короче, они меня до слез довели, достали они меня этим. Ну, надо сказать, что это был единственный, конечно, случай, это было что-то похожее на садизм. Они меня довели до рыданий. Но надо сказать, что после этого я как-то Павлика Морозова разлюбил.
Иван Толстой: Что отец успел вам внушить, объяснить, привить из его любви к жизни, любви к книгам, любви к окружающему миру? Он что-то такое говорил, какие у него были “любимые пластинки»?
Александр Даниэль: Я не знаю, просто в доме именно от отца в первую очередь шло то, что в то время звучали стихи.
Иван Толстой: А чьи стихи?
Александр Даниэль: Самые разные. В доме я впервые еще, мелкий пацан лет двенадцати, услышал Пастернака. Между прочим, в доме водился Бродский. Вот именно дома где-то там на подоконнике валялся “Рождественский романс”, который я случайно подхватил и просто утонул в этом тексте. Какие-то советские поэты, Багрицкий, Сельвинский.
Иван Толстой: Кто приходил в гости к вам? К отцу?
Александр Даниэль: Он был исключительно общительный человек. У него круг знакомств был такой, что когда его посадили и все его друзья стали подписантами за него, то это сразу стал целый социальный слой. Это были интеллигенты средней руки, гуманитарии, естественники, ученые, много физиков знакомых было, учителя. Зверинец был огромный.
Иван Толстой: Синявского вы помните той поры, доарестной?
Александр Даниэль: Конечно, конечно. Прекрасно помню. Родители брали меня, брали нашу собаку Керри и мы ехали к Синявским на дачу, которую они снимали в Деньково под Москвой. И там они начинали, ну, как бы это сказать, чтобы не обижать трезвенников, гудеть на день, другой, третий, иногда делая вылазки в Москву за следующей бутылкой.
Иван Толстой: А когда их арестовали, когда вы уже подросли, когда вы не были уже подростком, а вполне взрослым состоявшимся человеком, можете ли вы сказать, что в той атмосфере общения Синявского и вашего отца угадывалось что-то подпольное?
Александр Даниэль: Да что угадывалось? Мне же отец на самом деле рассказал про себя до своего ареста.
Иван Толстой: Вам четырнадцатилетнему?
Александр Даниэль: Да. Я совершенно понимаю четко, почему он это сделал и для чего. Он уже чуял, что арест в скорости грядет. Я очень хорошо это помню, это был январь шестьдесят пятого года.
Иван Толстой: За полгода?
Александр Даниэль: За полгода, да. Он мне подсунул эти книжки. НиколайАржак. И сказал: "Почитай". Вот я уже знал, что такое антисоветская поэзия. Я читал “Лебединый стан” Цветаевой и что-то еще в этом духе. И “Лебединый стан” мне нравился. А тут проза. И говорит: "Прозу хочешь тоже антисоветскую?" Я говорю: "Ну, давай". И прочел - по-моему, первое, что было: “Говорит Москва”.
Он меня спрашивает: "Ну, как тебе?" Спрашивает якобы безразлично. Ну, я же был такой ребенок интеллигентный, стало быть немножко снобистский. Я так высокомерно через губу говорю: "Талантливо". Ни сном, ни духом не подозревал. Абсолютно.
Он говорит: "Это я написал". Потом еще дал мне прочесть несколько своих рассказов.
Иван Толстой: Ваша реакция на это признание?
Надо же, мой отец автор, писатель, его издают, его печатают. Это было очень лестно
Александр Даниэль: Вы знаете, очень интересная. Я, конечно, был не такой уж младенец, я понимал, что за это по головке не погладят, за издание за рубежом под псевдонимом, а скорее всего даже и посадят. И это я понимал, эта мысль у меня была, конечно, в голове. Но это была вторая мысль. А первая мысль была примерно такая: "Надо же, мой отец автор, писатель, его издают, его печатают. Это было очень лестно и конечно, вот эту опасность разоблачения и посадки я понимал, но умом. Только умом.
Иван Толстой: Ему не приходило в голову что-то такое сказать охранительное, мол, не говори никому?
Александр Даниэль: Да нет, по-моему, я не помню. Может, он что-нибудь такое сказал, но я не помню.
Иван Толстой: Но вам и так было все понятно?
Александр Даниэль: Это подразумевалось, конечно. В 14 лет я уже понимал. Меня никто, повторяю, не воспитывал в каких-то специальных чувствах к советской власти. Но как-то оно все одно к одному сходилось - эпоха, и сверстники, которые все тоже относились как-то к советской власти не очень серьезно. И классическая литература русская, которая тоже ничего хорошего про советскую власть не могла сказать. Там какие-нибудь Толстые, Достоевские.
Иван Толстой: Где вы были в тот момент, когда вы узнали о его аресте?
Александр Даниэль: Мы с матерью в это время уже жили отдельно в Новосибирске. И отец к нам приехал в эти дни. Ну, просто приехал навестить нас, уточнить семейные обстоятельства, и так далее. И там его вызвали в КГБ в Новосибирске. И 3 дня его вызывали в КГБ, допрашивали. Он возвращался поздно вечером домой после допроса. На третий день ему сказали: "Вы должны вернуться в Москву".
Взяли они с матерью билеты, сели в самолет и улетели в Москву. Мать еще мне сказала так: если все будет в порядке, я тебе телеграмму пошлю: “Все в порядке, долетели. Мама, папа”. А если будет не в порядке, то я пошлю телеграмму: “Долетела. Мама”. Но они прилетели во Внуково», пошли в почтовое отделение, послали телеграмму: «Все в порядке, долетели. Мама, папа”.
Я эту телеграмму получил, успокоился. А на выходе из аэропорта его взяли. Поэтому я не помню, как я об этом узнал. То ли она в тот же день вечером послала другую телеграмму - “Приехала домой. Мама”, - и я догадался, как дела обстоят. То ли она позвонила каким-то образом кому-то. Ну, не помню, но в тот же день я уже знал, что всё, отца посадили.
Иван Толстой: А ваши действия после этого? Вы оставались в Новосибирске?
Александр Даниэль: Я остался в Новосибирске еще на несколько месяцев. Я учился в интернате в Новосибирской физмат-школе, довольно известной. И мне ужасно не хотелось бросать ее. Я только-только в нее поступил. Поэтому первый семестр я там проучился, а потом все-таки вернулся в Москву.
Иван Толстой: Были к вам претензии, пока вы учились?
Александр Даниэль: Где, в ФМШ?
Иван Толстой: Со стороны советской власти. Где бы то ни было. В Новосибирске, в Москве. Пока вы учились?
Александр Даниэль: Нет. Нет, нет, не было.
Иван Толстой: То есть сын за отца не отвечал?
Александр Даниэль: Ну, потом немножечко, наверное, ответил, когда уже я поступал в ВУЗ.
Иван Толстой: В МГУ?
Александр Даниэль: Ну, нет, в МГУ я честно завалил экзамен по собственной инициативе, по собственной вине. Завалил экзамен, тут ничего такого от советской власти не требовалось, чтобы я не поступил в МГУ, а потом уехал поступать в Тарту. В Тартуский университет. Но, как ни странно это звучит по отношению к Тартускому университету, не на филфак, а на физмат. Там тоже был сильный физмат.
Иван Толстой: Там был Клементс ректором?
Александр Даниэль: Да, ректор. Я с ним беседовал по поводу всей этой истории, каким хитрым образом меня не взяли. Все-таки, хотя я сдал все экзамены и сдал хорошо. Меня тем не менее туда не взяли, и я с Клеменсом ходил объясняться по этому поводу. Я до сих пор не могу себе простить, что я ходил с ним объясняться. Он разговаривал со мной, не поднимая глаз от стола. Ему было чудовищно, видимо, неудобно. А я, безжалостный пацан, его терзал. Ну, в общем, нехорошо это было. Пытаясь дознаться, в чем же причина отказа. Я понимал и без него, конечно. Но и мог бы вообще старика не дергать и пощадить. Ему было очень неудобно.
Иван Толстой: И вы вернулись в Москву?
Александр Даниэль: Да.
Я к нему ездил на свидания все время
Иван Толстой: Когда вы увидели отца по возвращении? При каких обстоятельствах?
Александр Даниэль: Я к нему ездил на свидания все время.
Иван Толстой: Вы были на свиданиях у него?
Александр Даниэль: Ну, разумеется, сразу после суда дали два свидания в Лефортово. Потом его отправили в лагерь в Мордовию, в Дубровлаг. И туда я ездил на свидание регулярно, сначала вместе с матерью, а потом, когда мать посадили, уже один. А потом отца отправили в Владимирскую тюрьму, за все его прегрешения, досиживать срок, и я туда ездил тоже один.
Иван Толстой: Какие были разговоры с отцом там в заключении? Насколько вольными они были?
Александр Даниэль: Ну, с учётом того, что мы оба понимали, что каждое слово прослушивается, да, а так - Эзопа тоже никто не отменял.
Иван Толстой: Вот он возвращается. Где вы в тот момент?
Александр Даниэль: Я в Москве.
Иван Толстой: И возвращается он в Москву?
Александр Даниэль: Нет. Как это он возвращается в Москву, когда он осужденный.
Иван Толстой: По рогам?
Александр Даниэль: По рогам, да, но это не называлось тогда по рогам. Но это ограничение через положение о паспортах.
Иван Толстой: И, конечно, 100 километров?
Александр Даниэль: Да, ни о какой Москве там речи быть не могло. И более того, еще до того, как он освободился, ему сказали: "Юлий Маркович, вы понимаете, что вас в Москве никто не пропишет. Выберите себе место жительства вне Москвы". Он выбрал Калугу и в Калуге жил.
Иван Толстой: Встречался ли он с Синявским до отъезда Синявского?
Александр Даниэль: Да, разумеется. Конечно. Как только Синявский вышел на свободу (он же позже вышел на свободу, чем Юлий Маркович). Конечно, они встретились. Ну, понятное дело, общались. Они же друзья и ближайшие друзья.
Иван Толстой: Вы не были свидетелем этих встреч после лагеря?
Александр Даниэль: Был. Не самый первый, конечно, не лезу я в отношения близких друзей. Но Андрей, несмотря на то, что когда он вышел после лагеря, он в общем как бы предпочитал сидеть дома и не то, чтобы у него был широкий круг общения, но всё-таки к отцу моему он приходил, общался. Когда Юлию Марковичу разрешили поселиться в Калуге, на самом деле, этот запрет не был очень строгим. То есть, де-факто, он жил в Москве, где-то стал жить в Москве года через полтора-два после того, как освободился.
А потом как-то стало понятно, что не собираются его прессовать вот по этой линии
Сначала мы немножко опасались, стереглись. А потом как-то стало понятно, что не собираются его прессовать вот по этой линии.
Иван Толстой: А где он жил? Что это была за квартира?
Александр Даниэль: Ну, во-первых, где я жил - на Ленинском проспекте. Потом он женился снова, потому что с матерью они к этому времени разошлись. Он женился снова и жил у своей жены, Ирины Павловны Уваровой, улица Вальтера Ульбрихта - Новопесчаная.
Иван Толстой: Что самое главное вам вспоминается из общения с отцом в эти годы уже после лагеря и до его смерти? Что незабываемо?
Александр Даниэль: Слушайте, всё незабываемо. Общение с отцом для меня всё целиком незабываемо. Пустяки и серьезные разговоры, все.
Иван Толстой: Лагерные разговоры были?
Александр Даниэль: В смысле рассказы? Ну, конечно, байки он все время травил лагерные, разумеется.
Иван Толстой: Как он о лагере рассказывал? Есть ведь люди замыкающиеся, есть травящие только байки, есть драматизирующие. Он был каким?
Александр Даниэль: Ни в коем случае не драматизировал, конечно. Скорее байки травил. А из серьезных, что он вынес из лагеря, что в разговорах всплывало (хотя тоже все это аранжировалось с всякими байками и хохмами) - это отношение к людям, которых он там встречал. Он абсолютно захлебывался от восторга перед этими людьми. Для него это было незаслуженное счастье общения с лучшими людьми разных народов, населявших Советский Союз. Он был абсолютно в восторге от своих соратников. Ну, думаю, что не от всех, но рассказывал о тех, которые ему были интересны.
Иван Толстой: Все эти годы, пока отец сидел, какие у вас были взаимоотношения со сверстниками во дворе, в классе, с учителями?
Александр Даниэль: Самые замечательные. Друзья, конечно, знали о том, что у меня отец сидит, абсолютно сочувствовали, абсолютно поддерживали. Ну, что сказать, это же был шестьдесят пятый-семидесятый год. Это же уже совсем другая история. Это не “ты сын врага народа”, а “о, ты сын врага народа! Это замечательно, это интересно, это класс, это круто!”
Что касается учителей, ну, слушайте, я учился в элитной школе. Я уже говорил, что когда отца посадили, я учился в Новосибирской физматшколе. Там просто один из преподавателей был старый-старый университетский друг моего отца и матери. А когда я вернулся в Москву, я поступил в знаменитую 2-ю школу. Тоже, пожалуй, самая элитная московская школа. Это где Овчинников Владимир Федорович директором был. На самом деле, если честно, я всю жизнь в школе, во всяком случае, да и после школы, все время пользовался какими-то преференциями. Как-то ко мне всегда относились хорошо - не потому, что я такой хороший, а потому, что у меня родители вот такие. Папа, потом мама.
Кстати говоря, один из учителей во 2-й школе был один из ближайших друзей моего отца, опять-таки, Анатолий Александрович Якобсон. Кроме того, что замечательный педагог, еще и замечательный критик, переводчик, и так далее.
Ну, в общем, мне прощалось то, что до сих пор стыдно вспомнить, сколько мне прощалось и как я несправедливо пользовался этими преференциями. Был довольно легкомысленный пацан.
Иван Толстой: Как формировался, пока не было отца, ваш интеллектуальный круг, круг чтения? Как вы выбирали литературу?
Александр Даниэль: Так же хаотически, как и до того. Не было никакого специального алгоритма отбора. Что бросалось в глаза, что на полке просилось в руки, то и брал.
Иван Толстой: Вы помните ваш первый разговор? Вольный, свободный, частный разговор с отцом после его освобождения? О чем он был? Ну, или первый важный.
Александр Даниэль: Знаете, я очень хорошо помню день освобождения отца. И, конечно, мы с ним в этот день все время разговаривали. Хотя и не очень разговаривали, наверное. Дело в том, что мы приехали встречать его во Владимирскую тюрьму на машине. Двое наших друзей приехали каждый на своей машине. И мы таким кортежем из двух машин поехали из Владимира в Калугу. И я сидел, конечно, в той машине, где ехал отец. И мы, наверное, о чем-то разговаривали. Но, в общем, я старался к нему не приставать, потому что это были первые часы свободы.
Ну, как? Ни о чем особенном, ни о чем важном.
Иван Толстой: Что ему больше всего хотелось в первые часы, дни, недели, месяцы на воле?
Александр Даниэль: Друзей. И друзья к нему приезжали в Калугу.
Иван Толстой: А он заграничное радио слушал?
Александр Даниэль: Да не особенно, мне кажется. Кажется, что не очень.
Иван Толстой: Приёмник был у него?
Александр Даниэль: Да наверняка был. Слушайте, ну вы же помните, как трещала эта штука. Какая это мука была. Ну в Калуге, может, меньше трещала, но все равно трещала и это было страшно утомительно. Ну, наверное, слушал, я так думаю. Но я не помню, чтобы он так вот сидел, прильнувши ухом к радиоприемнику и вслушивался во что, в музыкальную передачу Севы Новгородцева? Я знаю, которых еще и не было тогда, да.
Они посматривали, они курировали
Иван Толстой: Отношения с официозом какие были поначалу? Потом понятно, он использовал псевдоним для печатания, но поначалу как это выстраивалось?
Александр Даниэль: Они посматривали, они курировали. Как бы Юлий Маркович Даниэль не занялся бы каким-нибудь таким крутым диссидентством. Он не занимался крутым диссидентством, он все-таки не был диссидентом, он был просто литератор. Не более того. Но с какими-то людьми из диссидентского округа он дружил, и это, конечно, не очень нравилось его кураторам. Но а что они могли сделать? Это были взаимно настороженные отношения.
Время от времени он совершал какие-то поступки, которые совсем не одобряли КГБшные надзиратели. Ну, например, выступал в защиту в общественной дискуссии, которая возникла в середине семидесятых по поводу эмиграции, выступал в защиту эмигрантов, прежде всего в защиту своего друга Андрея Синявского. Но не только его, он как бы говорил о том, что эмиграция - это поступок, это решение, это трагедия, и нельзя поверхностно и легкомысленно оценивать этот поступок. В основном это было выступление против Игоря Ростиславовича Шафаревича, который гневную антиэмигрантскую статью поместил, не статью, а интервью, по-моему, он давал иностранным корреспондентам, клеймя эмигрантов. Он взял и дал некоторый резкий полемический отзыв на эту тему.
Иван Толстой: У него не было у самого мысли об эмиграции?
Ему перестали давать переводческую работу . Перекрыли кислород
Александр Даниэль: Нет. То есть я не знаю, какие у него были мысли. Никаких движений в эту сторону у него не было. А мысли... может, какие-то они у него были. Насколько я знаю, нет. И как только он вот это письмо Шафаревичу он написал и опубликовала газета “Монд”, и потом “Русская мысль”, тут же ему перестали давать переводческую работу . Перекрыли кислород. Ему пришлось исхитряться, чтобы получать эту работу под чужими именами, и так далее.
Потом такая же аналогичная история была, когда посадили Алика Гинзбурга третий раз. И он написал некий текст в поддержку Гинзбурга. И опять ему перекрыли кислород, опять издательства перестали давать ему переводческую работу.
Иван Толстой: Как он отнесся к перестройке? Что говорил?
Александр Даниэль: Знаете, не удивился. Все мы страшно удивлялись, а он не удивился. Он сказал: "Я знаю, я уверен был, что рано или поздно так и случится". Какой-то такой вот я помню его реакцию. Он удивлялся нашему удивлению.
Иван Толстой: Что-то он успел напечатать? Всё-таки 1988-й год.
Александр Даниэль: Он успел. Были напечатаны несколько его переводов под его именем, старых переводов, которые ещё в 1965 году он сделал, но они не были опубликованы из-за его ареста. Ивана Драча, если я не ошибаюсь.
В “Огоньке” появилась подборка его стихотворений. И наконец, осенью 1988 года, уже совсем незадолго до его смерти, в “Юности” появилась одно из его криминальных произведений, то, за что его судили, повесть «Искупление». Но это уже было фактически вне его жизни, потому что он уже был без движения и без речи. Я не уверен, что он успел осознать, что эта его проза опубликована в советской печати.
Иван Толстой: Этой осенью в Праге в переводе на чешский язык вышла книга воспоминаний первой жены Юлия Даниэля и матери моего собеседника Александра правозащитницы и публициста Ларисы Иосифовны Богораз “Сны памяти”. Издательство “Торст” и Институт изучения тоталитарных режимов. Александр, какова идея этой книги и ее главная мысль?
Александр Даниэль: Писала она ее в1990-егоды. Про мысль могу с уверенностью сказать, она никакой мысли в ней не проводила.
Вообще. И никакой генеральной идеи в ней не было. Просто очень точное название она выбрала для своей книги - “Сны памяти”. То есть это о детстве, о юности, о самых главных переживаниях, о каких-то врезавшихся в память эпизодах жизни, о каких-то темах, которые возникали в разные годы ее жизни и менялись по ходу жизни. В общем, обо всеми ни о чем.
Иван Толстой: Есть ли там линия диссидентская?
Александр Даниэль: Сюжеты диссидентские есть, конечно, да. С некоторого момента начиная. Хотя слова "с некоторого момента" это очень неточно. Она не расположена в хронологическом порядке более или менее, но это уже скорее воля издателя, а не ее собственный замысел. Так сложились фрагменты издателя Евгения Захарова.
Иван Толстой: А как она осмысляла через годы Красную площадь, все с этим связанное?
Мать моя - человек не просто не публичный, она антипубличный
Александр Даниэль: Вы знаете, кроме банальности, которую можно сказать на эту тему, гору банальных фраз, лозунгов и определений, главное следующее. В некотором смысле это был роковой момент ее жизни, потому что вообще мать моя - человек не просто не публичный, она антипубличный. Публичность для нее мука и совершенно невыносимое испытание. Она очень камерный человек. И так судьба ее складывалась, что эта ее антипубличность подвергалась каким-то бесконечным испытаниям и судьба бросала вызов. Вот это ее стремление быть в тени и не на виду.
И, конечно, главный сюжет, после которого она и сама поняла, что этот способ жизни для нее закрыт, это 25 августа 1968 года. Но она ничего не могла сделать. От судьбы не уйдешь.
Иван Толстой: А вот как она осмысляла эту закономерность, которая вывела ее на площадь?
Александр Даниэль: Ну, осмысляла. Можно формулы какие-то вспомнить, которые тоже звучат очень банально. Ответственность за страну, ответственность за себя, ответственность за будущее, за детей и так далее. Но это неинтересно, как вы понимаете. Интереснее другое. Интересней... Сейчас, минутку, я сформулирую.
Иван Толстой: Вы сейчас сказали абсолютно так, как говорила ваша мать, когда я ее спрашивал. Она сказала: "Минуточку, сейчас я подумаю".
Александр Даниэль: Ну да, ну да. Чего же тут удивительного? Так вот, ну, во-первых, как мучительно для себя выйти на свет, на публику и так далее.
Иван Толстой: Но почему она все-таки это сделала?
Александр Даниэль: Я могу высказать некоторую одну важную для меня гипотезу. Одно из ее серьезных потрясений в жизни был 1965 год, когда арестовали моего отца. И дело в том, что у нее опыт-то был. Ее отца в 1936 году арестовали. И она хорошо помнила и не раз вспоминала, как знакомые родителей при виде ее и ее матери переходили на другую сторону улицы. Думаю, что это достаточно запомнилось ей.
И в 1965 году она вдруг и неожиданно получила совершенно противоположный опыт, когда после ареста Юлия Марковича все кинулись в дом помогать или сочувствовать, или как-то выразить свою солидарность. Близкие друзья - понятно, вроде бы, но и не близкие друзья, просто знакомые, дальние знакомые и вовсе незнакомые люди. Я же помню, как я, приехав домой в январе 1966 года, обнаружил абсолютно проходной двор в этой квартире. Когда дверь не закрывалась, звонок не умолкал, и люди просто толпами входили и выходили. Она этого совершенно не ждала. То есть она, может быть, умом ждала, а памятью своей, вот той, 1936 года, не ждала.
Она почувствовала себя обязанной - преодолеть эту свою интровертированность
И мне кажется, что она почувствовала себя обязанной - преодолеть эту свою интровертированность и соответствовать этому публичному выражению сочувствия и солидарности, которое она вдруг внезапно, неожиданно для себя получила. И это в конце концов привело ее на Красную площадь.
Иван Толстой: Что вошло в эту книгу?
Александр Даниэль: Вы знаете, она писала просто отрывки, без какой-то общей сюжетной линии. Она со мной советовалась. Я говорю: "Ну, давай придумаем какие-то яркие сюжеты, которые тебе запомнились в жизни. Вот пропиши их по отдельности, а дальше посмотрим, что будет”.
Но посмотреть не получилось, потому что она умерла. И возникла такая мозаика, которую издатель выстроил просто в хронологическом порядке и, наверное, правильно сделал.
Иван Толстой: Чешская книга и русская книга совпадают?
Александр Даниэль: Они идентичны.
Иван Толстой: Русское издание где вышло?
Александр Даниэль: В Харькове. Друг нашей семьи, сын друзей нашей семьи Ефима Захарова и Маргариты Рахмановой, Евгений Ефимович Захаров, взял просто, почти насильно(я-то думал, что это еще надо превращать во что-то, в какой-то связанный текст, комментировать, исправлять ошибки памяти и так далее), а Женька сказал: "Брось это дело, давай возьмем и издадим это все так, как оно есть". И был, конечно, прав.
Иван Толстой: Когда книга вышла по-русски?
Александр Даниэль: В 2009 году, через 5 лет после смерти Ларисы Иосифовны.
Иван Толстой: Александр Даниэль говорил о принципиальной непубличности характера Ларисы Иосифовны. И правда, она редко выступала даже у микрофона “Свободы”, но кое-что в архиве все-таки сохранилось. В 2000 году я записал с Ларисой Иосифовной в Москве большое биографическое интервью, которое вышло в эфир только через 11 лет в программе “Алфавит иномыслия”, которую мы вели с Андреем Гавриловым.
27 сентября 2011 года, рассказывает Лариса Богораз.
Лариса Богораз: Мои родители с Украины родом, и отец, и мать, но из разных мест Украины. Они советские партийные работники, активные. Отец занимался политэкономией социализма, естественно, а мама идеологией социализма, естественно. Жили мы в городе Харьков. Я там родилась и там прожила почти всю жизнь.
У меня две фамилии: Богораз-Брухман
Иван Толстой: Вы урожденная...?
Лариса Богораз: У меня две фамилии. Это тоже отдельная история. Богораз-Брухман. Дело было так: когда я родилась, тогда не регистрировали браки, но записали меня Богораз в метрике. Потом отца арестовали, мама решила, что лучше мне носить другую фамилию, Брухман. Она вписала в метрику вторую фамилию сама. Потом началось это самое антисемитское у нас движение и стало неочевидно, что хуже. По ее выбору - в школу записывать. Она записывала то одну фамилию, то другую, в зависимости от ситуации. Поэтому у меня оказалось две фамилии.
А когда я получала паспорт, никто уже ничего не спрашивал. Писали, что написано в метрике. Богораз-Брухман, такая у меня фамилия. Но поскольку я заканчивала университет как Богораз, я уже, так сказать, привыкла к этой фамилии в одиночестве.
Иван Толстой: Какой оказалась судьба отца?
Лариса Богораз: Он просидел на Воркуте до хрущевского съезда. Хотя у него был маленький срок. Говорили: это на горшке можно отсидеть - 5 лет. Он освободился, вышел. Тем временем они с матерью еще раньше, еще до его ареста разъехались. Значит, отец освободился, я его не знала. Его посадили, когда я была совсем еще маленькая. А мама продолжала работать. Ну, потом я познакомилась с отцом, который оказал на меня огромное влияние. Просто очень большое. Он был очень умный, мудрый еврей. Знаете, из мудрых евреев. Все понимал. Еще до ареста.
Он не навязывал мне свою точку зрения, свою позицию, но как-то корректировал, очевидно, и слегка. А я была очень против его позиции. Я была комсомолка, очень активная, очень, как бы сказать, идейная комсомолка, что называется.
Иван Толстой: Еще один фрагмент из беседы 2000 года. Лариса Иосифовна рассказывает о том, где и как она работала после окончания русского отделения Харьковского университета.
Журналистом я была плохим
Лариса Богораз: Сначала в школе много лет, но не подряд. То увольняли, то брали, то не брали. Ну, сложности были всякие. И национальные, поэтому по разным причинам не брали. После школы я некоторое время, очень короткое время, работала внештатным корреспондентом журнала “Дружба народов”. Я думаю, только потому, что я хорошо знала украинский. Других оснований не было.
Журналистом я была плохим. А потом я поступила в аспирантуру, закончила аспирантуру, поехала на работу в Новосибирск, преподавала в университете. Там Даниэля арестовали, и я должна была уехать в Москву. чтобы передавать передачи.
Здесь мне ГБ помогло устроиться на работу в Москве. На работе я вот, значит, пришла к 8:00 или к 9:00. Вот она я. Ухожу в 6:00. Вот она я.
Это был институт, научно-исследовательский институт, только создавшийся тогда, - Кодирования информации(Всесоюзный научно-исследовательский институт технической информации, классификации и кодирования (ВНИИКИ) —ред.).Специальность у меня - структурная лингвистика, то есть поисковые системы. Вот в таком институте работала. Там я украла один документ на колючую проволоку. Технические условия или патент на колючую проволоку. Он где-то у меня сейчас есть.
Иван Толстой: Созданный в недрах вашего института?
Лариса Богораз: Нет. Мы только с документами имели дело. Только поисковая система, поиск патентов. Значит, вот там я работала. А потом 1968 год пришел. Потом я была в ссылке. Там я работала на деревообрабатывающем комбинате грузчиком. Мне нравилась эта работа. Хотя бы виден результат.
Потом, когда я вернулась из ссылки в Москву, никакой работы. Куда не пойду, нет.
Иван Толстой: Какой это год?
Лариса Богораз: 1970-1971-й. Меня для того, чтобы я не была тунеядкой, оформила домработницей к себе моя приятельница, научный сотрудник. Но я числилась просто у нее. Но работать же тоже надо, зарабатывать. Вижу объявление: в детском саду нужна ночная няня. Меня это очень устраивало. У меня тяжело болели родители в это время. Это в нашем же дворе. Значит, ночью я в детском саду и могу в любой момент посмотреть, как родители, как отец и мать. Меня не взяли на работу. Идеологическая работа - горшки выносить. Сначала было взяли, потом посмотрели анкету, где-то справились и не взяли.
Потом меня взяли все-таки на работу консьержкой. Лифты мыть, лестничные площадки убирать. Вот там я доработала до пенсии. Всё, весь мой трудовой стаж.
Иван Толстой: Во время беседы 2000 года я спросил Ларису Иосифовну, когда скончался ее отец.
Лариса Богораз: В 1986-м, уже очень старым человеком.
Иван Толстой: Как он реагировал на все ваши выкрутасы?
Лариса Богораз: Знаете, я старалась не все ему говорить. Я боялась за него, что он будет нервничать очень. Мамы уже не было, мама умерла в 1950-м еще. У отца была другая жена. Значит, они оба очень из-за меня волновались, конечно. Я старалась не все им говорить.
И вот 1968 год, процесс Гинзбурга-Галанского, наше обращение с Литвиновым.
Я, конечно, им ничего не говорила, что я собираюсь написать или написала, ничего не говорила. Кончился процесс, мне звонит отец. Я услышала в его голосе, знаете, что он услышал звуки боевой трубы. Он был доволен, хотя понимал всю опасность для меня этого. Но для него это был положительный момент. Он не то, чтобы поддерживал меня (кто же будет поддерживать дочь, которая лезет в петлю?), но, в общем, я услышала, что он как боевой конь как-то реагировал на это.
Это еще было до начала 1968 года. Но он, конечно, знал, что я принимаю участие в передаче информации. Вот он слушал “Свободу”, всегда слушал. Конечно, знал об этом. Я говорю: "Папа, я же не могу тебе все по телефону сказать”. - “Вот ты не приходишь, редко бываешь. А где ты?" Я говорю: "Я не всегда могу тебе сказать, где я". - Ты мне говори: "Я пошла в ресторан. Я буду понимать". Значит, мы устроили такую маленькую конспирацию.
Потом приблизился август 1968года. Тоже не могу сказать ничего. Я перед тем, что идти на Красную площадь, оставила записки папе, мачехе (его жене), сыну. Ну, в общем, там просила прощения. Ну, понятно. Он поддерживал моего сына, которому тогда было 17 лет. Потом они приезжали ко мне в ссылку. Но дальше у нас уже было абсолютное взаимопонимание с отцом.
Я не могу сказать, чтобы они радовались тому, что я угодила в ссылку. Но когда они ко мне приехали, они ходили по этому поселку, отец понимающе (он ведь тоже сидел) говорил: "Как это похоже на Игарку, Боже мой, а на Воркуту! Посмотри, такие же штабеля, дрова около заборов". В общем, для них это была знакомая и не ужасная картина. Хотя они пережили все -и кирпичный завод на Воркуте.
Потом, когда появился Горбачев, отец говорил: "Все-таки в этом парне что-то есть". Я говорю: "Ну что ты, папа, сколько можно дурачить тебя? Ну, хорошо, - погладил в Питере ребенка по головке. Ты мало таких видел?"
Он стал стесняться своего отношения, но не изменил его. Потом он мне сказал: "Знаешь, голодное детство в деревне не может пройти даром. Все-таки в этом парне что-то есть".
Иван Толстой: Я спросил Ларису Иосифовну о Юлии Даниэле.
Лариса Богораз: У него был талант. Талант не писательский, а талант вообще общения с людьми. Он был всегда центром общения. И до ареста на свободе, и в лагере, и после лагеря тоже. Ему все было интересно, все люди были интересны, поэтому он был интересен многим.
Иван Толстой: Я поинтересовался, чем занималась Лариса Иосифовна в первое свободное десятилетие, то есть в девяностые.
Лариса Богораз: Когда уже перестройка началась, я подумала, что мы недоделали свою работу, правозащитники. Население так же далеко от права, как и было раньше. То мешало государство, а теперь само население его не воспринимает.
Я решила, что я должна заняться, я же педагог все-таки, просветительством. Я организовала семинар, просветительский семинар для правозащитников “Что такое права человека?” Семинар действовал с 1991 по 1996 год или по 1997. Дважды в год проходили занятия, где выступали юристы.
Оказалось вдруг, что я пользуюсь популярностью, когда перестройка началась. - “Расскажите, как вы вышли на площадь?” И те знают, и эти знают, многие знают. Я думаю, ну, должна я получить какой-то навар с этого. Если я обращусь к юристу такому-то, он мне не откажет выступить на семинаре. Так оно и было все в точности. Ни разу никто не отказался. Крупные, видные юристы, и не только юристы, и работники правоохранительной системы выступали. Сорос дал деньги, первые деньги.
Я не могу сказать, что я завершила эту работу. Я завершилась
Результат оказался очень хороший. Образовались уже более грамотные группы правозащитные. И главное, что они перезнакомились между собой на семинарах.
Я не могу сказать, что я завершила эту работу. Я завершилась. У меня уже нет сил на это. Потому что на каждый семинар надо добывать новые деньги. По каждому семинару мы издавали сборнички, материалы семинара. Я думаю, что это я молодец.
Иван Толстой: А у вас есть ответ на вечный проклятый вопрос, почему наше население не воспринимает правовой вопрос?
Лариса Богораз: Может, предпочитают другие пути решения проблем, более надежные с его точки зрения. Например, когда я была в ссылке, принимался тогда закон Советского Союза о трудовом праве, совершенно зверский сталинский закон. Рабочим читают этот закон, они должны проголосовать за, голосуют. Я думаю: что они делают?
Они себе на шею ярмо вешают. Потом я с ними разговаривала, со своими коллегами рабочими. Они мне говорили: "Лариса, ты молодец, ты проголосовала против". Я говорю: "Володя, а ты-то чего ж голосовал за? Ты понимаешь, что ты себе на шею повесил?” Он говорит: "Да я темный человек". Я говорю: "Знаешь что, брось. У меня лапшу на уши не вешают. Ты в армии был, ты грамотный и понимал, чего ж ты не выступил?”
Он, в общем, не смог ответить. Я сама себе задала этот вопрос. Потому что у него найдется кум в милиции, сват в профсоюзах, знакомый ещегде-то. Легче решится любая проблема. Привыкли решать проблемы другим способом, незаконным. На закон никогда страна не опиралась. По-моему, такого времени не было, чтобы она опиралась на закон. А проблемы-то возникают у каждого и каждый день. И это вошло в сознание населения, что все проблемы взаимоотношений решаются иначе. Зачем нам законы? Думаю, что это сыграло роль и продолжает играть роль и сейчас тоже.
Иван Толстой: 27 ноября 1995 года Лариса Иосифовна участвовала в программе Московской редакции, посвященной Юлию Даниэлю. Ведущие: Илья Дадашидзе и Марина Тимашева.
Марина Тимашева: Каким был частный человек Юлий Даниэль?
Лариса Богораз: Он был камертоном нравственным. Ну, вот из эпизодов его жизни я могу рассказать один. Никогда, например, мы с ним не ставили себе задачу воспитать сына в том или ином духе, в том или ином направлении. Просто у Сани оказались тоже от природы присущие эти же качества. Однажды Саня пришел с пионерского сбора, оживленный очень. Я говорю: "Ну что, интересно?" "Очень интересно", - говорит он. "О чем же?" Он говорит: "О Павлике Морозове".
Юрик побелел, вот как этот холодильник стал. Ничего не сказал ему. Сначала ничего не сказал. Я говорю: "А что такое сделал замечательный Павлик Морозов?" Саня попросту, как свойственно одиннадцатилетнему мальчишке, сказал: “Он донес на своего отца”. Он произнес это своими словами, понимаете? Но когда он произнес, он понял, что он сказал и что сделал Павлик Морозов. Просто своим молчанием Юля подействовал. Тогда Санька заплакал.
Больше о Павлике Морозове в доме речи не было. Но еще когда Саня был еще меньше, он приходит из детского сада с фонарем под глазом. А это откуда, говорю. Ну он так, между прочим, говорит: "Мы во время мертвого часа там пиками сражались. И мне там Сережка пикой заехал". Он не пожаловался. Мимоходом сказал. Посмотрел он на Юлика и сказал: “Я тебе больше никогда ничего рассказывать не буду”.
Вот такое было действие, как индукция электрическая в совершенно определенном направлении. И это было во всем. Абсолютное нравственное чувство у Юлика было.
Иван Толстой: И еще одна запись из правозащитной передачи. Предупреждаю, что качество не просто телефонное, но совсем скверное. Прошу понять и простить. Мысль Ларисы Богораз того стоит.
26 декабря 1994 года в беседе с сотрудницей Московского бюро Верой Кузнецовой она говорит о правах человека и о российском нападении на Чечню.
Лариса Богораз: Права человека не имеют границ. Это движение без границ, и оно, конечно, опирается на нравственные принципы. Кроме того, у меня нет уверенности в том, что и писаные законы позволяют так использовать армию. Но я это не очень хорошо знаю. Но тут дело не в писаных законах, дело в нравственной позиции.
Вера Кузнецова: Видите ли, некоторые политики сейчас выступают и говорят, что сохранение России - любой ценой.
Лариса Богораз: Этой ценой она не сохранится. Это верный путь к развалу России. Война, которую развязали, это верный путь к развалу России. Не только Чечня может отколоться, но и другие республики и образования. Потому что при насилии не может уцелеть страна. У нас на нашей демонстрации тогда против ввода войск в Чехословакию был такой лозунг: "За вашу и нашу свободу».
Мы не только за свободу Чечни, мы за свободу России.
Иван Толстой: Мы не только за свободу Чечни, мы за свободу России, - говорила в 1994 году Лариса Богораз. Правильная мысль актуальна в любые времена.